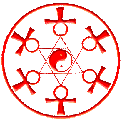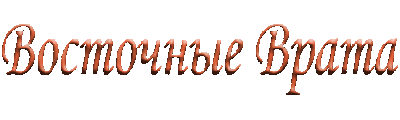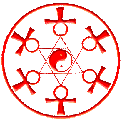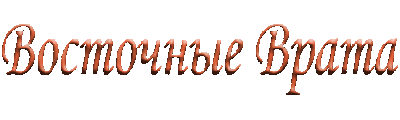Сокращённый вариант главы "МИССИИ И СУДЬБЫ" из
книги "РОЗА МИРА" Даниила Андреева
свещая - насколько я могу осветить - в главе о средних мирах Шаданакара характер связи между
человечеством и сакуалой даймонов, я упомянул о рассе метапраобразов, обитающей подле даймонов и
имеющих большое значение для понимания некоторых произведений в Энрофе.
Лев Толстой - отец
Андрея Болконского, хотя, конечно, и не в том смысле, в котором он был отцом Сергея Львовича или
Татьяны Львовны. Интуиция гениального художника, синтетически создававшего образ Андрея из
отдельных психических и физических черт разных людей, уловила сквозь эту амальгаму, как через
своеобразный эфирный фокус, похожий, но ещё более значительный образ существа из Жерама - того слоя
в сакуале даймонов, который играет для них ту же роль, что Энроф для нас. Это было существо из расы
метапраобразов - отставшей в своём развитии от даймонов и опекаемой ими расы. Я упоминал уже, что они
черезвычайно схожи с людьми как своим внешним обликом, так и душой. Образ Андрея Болконского воспринимался,
и творчески сопереживался миллионами людей, читавших эпопею Толстого. Психическое излучение этого
людского множества необычайно усилило этот объективно существующий, созданный Толстым эфирный образ
Андрея, а для метапраобраза, связанного с ним, он стал одним из материальных облачений, чем-то
вроде его эфирного тела, чем-то необходимым ему для дальнейшего развития, вернее - облегчающим и
ускоряющем его развитие, как бы наполняющим новыми горячими силами и полнотой жизни его существо.
Проанализировать этот процесс точнее я не в состоянии. Возможно, что в следующем Эоне, когда
преображённое человечество приступит к спасению сорвавшихся в Магмы и Ядро Шаданакара, тот, кто нам
известен как Андрей Болконский и ныне находящийся в Магирне, обретёт своё воплощение в Энрофе и
примет участие в великом творческом труде вместе со всеми нами. А в текущем Эоне каждый из
метапраобразов, получивших эфирное облачение от художников Энрофа, вбирает наши психические
излучения, им вызванные, в свой состав, но и воздействует обратно на множество конкретных
человеческих психик: он тормозит их становление либо способствует ему - в зависимости от природы,
которая ему сообщена его творцом-художником. Вот почему общечеловеческий долг отцовства снимается
с великих художников: снимаясь, он заменяется долгом отцовства другого рода.
Данте, Леонардо,
Рафаэль, Микельанджело, Сервантес, Шиллер, Моцарт, Бетховен, Лермонтов, Гоголь, Чехов, Глинка,
Чайковский, Мусоргский и десятки других художественных гениев и вестников не имели детей, но
никакой нанш моральный инстинкт не вменяет им этого в ущерб именно по тому, что все мы бессознательно
знаем, что долг отцовства был ими выполнен, хотя и не так, как это происходит обыкновенно.
Ясно, однако, что художник не может быть свободен от кармической связи с отображёнными им метапраобразами
и от кармической ответственности за их судьбу, - подобно тому, человек-отец несёт ответственность
за судьбу рождённых и воспитанных им детей. Гоголь затратил огромные усилия и поистине титанический
труд, чтобы помочь в восходящем пути тем, кому он когда-то дал имена Собакевича, Чичикова или
Плюшкина. Предчувствовал ли он это при жизни или нет, но всем известно, что он уже тогда страстно
мечтал и даже пытался художественно предварить так называемое обращение главных персонажей "Мёртвых
душ", то есть их сознательное вступление на восходящий путь. Недовершённое в жизни совершается
художником в посмертии и на этот раз.
Чем значительнее созданный художником человеко-образ,
тем большие возможности открывает он перед метапраобразом. Для человека с раскрывшимся духовным
зрением и слухом встреча с тем, кто нам известен и нами любим как Андрей Болконский, так же
достижима и абсолютно реальна, как и встреча с великим человеческим духом, которым был Лев Толстой.
Вопрос - в раскрытии соответствующих, в каждом из нас заложенных органов восприятия, и в том,
в который именно из иноматериальных слоёв Шаданакара проникли мы благодаря этим органам.
После всего сказанного уже уже не может показаться странным следующее: роль крылатого даймона
по отношению к человеку - носителю дара и миссии вестника заключается, в смысле метода его
воздействия, в том, что он прежде всего снимает запоры с хранилища творческого импульса, заложенного
в вестнике, как и во всяком человеке, и этим способствует тому, что в творческое лоно художника
устремляется поток оплодотворяющих впечатлений жизни, отливаясь в тот или иной образ; во многих
случаях - в человеко-образ. Дальнейшая же работа даймона над астралом вестника преследует цель
ослабления костности тех эфирно-физических преград, которые отделяют человеческое сознание от
высших способностей, заложенных в астральном теле. При этом, в зависимости от художественной
и личной индивидуальности данного художника, а также в зависимости и от характера его миссии,
работа даймона может быть сосредоточена в особенности на какой-нибудь одной из этих способностей:
на духовном зрении или слухе, на глубинной памяти, на способности созерцания космических панорам
и перспектив, на способности высшего понимания душ человеческих - можно назвать её способностью
духовного анализа - и, наконец, на способности к Любви в самом высшем смысле этого слова.
В отдельных случаях работа даймона может направиться на раскрытие исключительно одной из этих
способностей, а её раскрытие облегчит и ускорит его работу над другими способностями уже в другой,
более поздний период жизни вестника на земле.
Существует некий закон масштабов: становящаяся монада делается тем, более великой, чем глубже
были спуски, которые ею совершены, и страдания, которые пережиты. Монада эманирует из Отчего лона
в материю не для того, чтобы скользнуть по поверхности одного из слоёв планетарного космоса, а для
того, чтобы пройти его весь, познать его весь, преобразить его и, возрастая от величия к величию,
стать водительницей звёзд, созидательницей галактик и, наконец, соучасницей Отца в творении новых
монад и вселенных.
Отсюда - наше чувство благоговения и преклонения не только перед
категориями прекрасного и высокого, но и перед категорией в е л и к о г о.
Сколько бы других, более частных задач ни выполнил в своём литературном творчестве Толстой, как бы
велики ни были созданные им человеко-образы, сколько бы психологических, нравственных, культурных
вопросов он не ставил и не пытался разрешить, но для метаисторика самое главное в том, что им
осуществлена была могучая проповедь любви к миру и к жизни. Жизни - не в том уплотнённом, сниженном,
ничем не просветлённом смысле, в каком понимали её, скажем, Бальзак иили Золя, а к жизни, сквозь
формы и картины которой именно сквозит свет некоей неопределимой и невыразимой, но безусловно
высшей Правды. В одних случаях эта Правда будет сквозить через грандиозные исторические коллизии,
через войны народов и пожары столиц, в других - через великолепную, полнокровную, полнострастную
природу, в третьих - через индивидуальные искания человеческих душ, их любовь, их неутолимое
стремление к добру, их духовную жажду и веру. Вот такую проповедь Толстой, как гений и вестник,
и должен был осуществлять - и осуществлял - зачастую вопреки намерениям его логизирующего,
слишком рассудочного ума; проповедь - не тенденциозными тирадами, а художественными образами,
насыщенными до предела именно любовью к миру, к жизни и к стоящей за ними Высшей Правде, -
образами, которые сильнее всех тирад и обязательнее всякой логики.
Он любил, и наслаждаясь
этой любовью, учил любить всё: цветущую ветку черёмухи, обрызганную дождём, - и трепещущие
ноздри горячей лошади; песню косарей, идущих по дороге; бесприютную старость Карла Ивановичча
- и усадебные идилии Левиновых и Ростовых; духовную жажду, уводящую Пьера к масонам, а отца
Сергия в странничество, - и хруст снега под торопливыми ногами Сони....
Трагедия Толстого заключается не в том, что он ушёл от художественной литературы, а в том, что
дары, необходимые для создания из собственной жизни величавого образа, который превышал бы
значительность его художественных творений, - дары, необходимые для пророческого служения,
- остались в нём нераскрытыми. Духовные очи не разомкнулись, и миров горних он не узрел.
Духовный слух не отверзся, и мировой гармонии он не услышал. Глубинная память не пробудилась,
и виденного его душою в иных слоях или в иных воплощениях он не вспомнил. Его проповеди,
были рождены только совестью, и опираются только на логику, а духовного знания, нужного
для пророчества в них нет.
Но духовная жажда его была так велика, а чувство долга проповеди
так неотступно над ним довлело, что 30 лет он пытался учить тому, что подсказывала ему совесть.
А так как совесть его была глубока, разум остр, а словесное мастерство колоссально, то безблагодатная
проповедь оказалась достаточно сильна, чтобы вызвать образование секты и даже перекинуться
далеко за рубеж, рассеивая семена идеи о непротивлении злу злом, - семена, падавшие в некоторых
странах на подготовленную почву и давшие потом такие всходы, как социально-этическая доктрина
Махатмы Ганди.
Запутавшись в тенетах своих противоречивых обязанностей, действительных и мнимых,
Толстой долго колебался, не смея поверить в правильность своего понимания - бросить свою семью
и сложившийся за столько лет уклад жизни. Когда же поверил и совершил - ему было 82, силы иссякли,
и долгожданное утоление духовной жажды встретило его по ту строну смертной черты.
Тот, кто был Толстым, теперь не водительствует, кажется, никем из живущих по кругам Шаданакара,
как Лермонтов, Гоголь или Достоевский. На высотах метакультуры он творит иное - то, что для тех
слоёв ещё грандиознее, чем "Война и мир" для нас. Ибо тройственный дар-долг гения - вестника -
пророка, за который он столько лет боролся с самим собой, лишь подобие наивысших форм служения
и творчества, осуществляемых в затомисах метакультур и ещё выше - вплоть до Синклита Челолвечества.
Земное творчество, лишь подготовка к творчеству в вышних мирах.
|
|